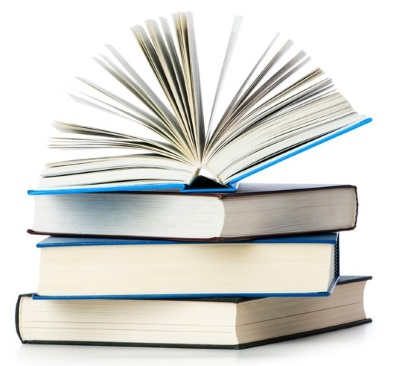ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ
- Подробности
- Опубликовано: 24.04.2025 15:15
- Просмотров: 30
Третью неделю словно бы наэлектризован зал заседаний военного трибунала ордена Ленина Московского военного округа. Третью неделю идет здесь судебный процесс над изменником Родины Потеминым пособником фашистских оккупантов в массовом истреблении советских людей. Председательствующий по делу полковник юстиции Валентин Афанасьевич Юркевич из многочисленных свидетелей обвинения. И вот подвижный седеющий человек с цепким взглядом дает суду показания. Да, он хорошо знает сидящего за деревянным барьером гражданина Потемина: познакомились весной 1943 года. Вот как состоялось их знакомство.
В первой декаде марта гитлеровцы отмечали день памяти солдат, отдавших жизнь «за фюрера и великую Германию». По этому поводу с речью о «близкой и окончательной победе над большевистской Россией» перед строем подчиненных выступил фельдполицайкомиссар Майснер.
B тот строй, - рассказывает свидетель, - только что прибывшего в ГФП-семьсот двадцать один, поставили рядом с Потеминым, поскольку мы примерно одного роста. В связи с торжественным построением на нас была новенькая, с иголочки, военная форма...
По своей сущности тайная полевая полиция — это полевое гестапо. Его группы в полосах действия подопечных гитлеровских армий призваны были вести контрразведку, которая, по фашистским понятиям, включала и такую задачу, как регистрация, а затем полное уничтожение лиц советского и партийного актива, всех коммунистов и комсомольцев, всех отмеченных когда-либо правительственными наградами СССР, всех заподозренных в общении с партизанами и подпольщиками, всех, кто хотя бы выражением лица выкажет недовольство поработительским «новым порядком» или добрым словом вспомнит жизнь до оккупации.
Это - к общей характеристике ГФП. Свидетель же говорит о вещах конкретных: от друзей. Потемина зондерфюреров Вилли и Квеста, а также из документов, хранившихся в сейфах полевого гестапо, он узнал, что Потемин на отличном счету у обер-палача Майснера. Активен и усерден. «Заслуживает благодарности и отпуска с правом поездки в империю». Так было сказано в приказе фельдполицайкомиссара.
- В командах гэ-эф-пэ-семьсот двадцать один, - продолжает свидетель, - началась кровавая деятельность Потемина.
Верно, то, чем занимался переметнувшийся на сторону врага военный переводчик Потемин, иначе как кровавой деятельностью не назовешь. Но с каким искренним гневом говорит о ней человек, который, как он сам только что сообщил суду, тоже служил в тайной полевой полиции, знался с зондерфюрерами, имел доступ к секретным гестаповским документам! И почему, откуда у него многоцветный ряд орденских планок на лацкане пиджака? Ордена-то советские, боевые. А среди медалей есть и «За оборону Сталинграда». Это уже совсем парадоксально, поскольку ГФП-721 опекало тылы армии... Паулюса!
Читатели, надеемся, догадались: свидетелем был Игорь Харитонович Аганин - бывший разведчик, прошедший боевой путь от Волги до Берлина, но не с наступающими полками, а среди тех, кто всеми силами пытался воспрепятствовать нашему наступлению, среди матерых волков гестапо и абвера.
А подсудимый? Помните, офицер государственной безопасности говорил следопытам подвига: «Мы знаем одного человека. Придет время, и он многое расскажет о донецких и макеевских подпольщиках. Неохотно, но расскажет». Так вот, перед судом - тот человек. Сотни и сотни километров прошли чекисты по мерзкому, с лисьей хитростью запутанному следу предателя и изменника. Прошли и буквально всё, до мелочи, узнали о подручном карателей и палачей Потемине.
И вот уже в трибунале час за часом, день за днем на конкретном примере Потемина анализируется сама природа и логика предательства. Безыдейность - его начало, первопричина. Помноженная на трусость, проявленную в острой ситуации, она и дает предательство в чистом виде.
Имеющий ученую степень кандидата наук, Потемин с такой трактовкой своего падения, разумеется, не согласен. «Моя трагедия в том, - сокрушается он, - что я попал в переводчики к жестоким следователям - Шайдту, Рунцхаймеру. Вот если бы меня определили к Штрелитцу, не сидел бы я сегодня на скамье подсудимых». По словам Потемина, сущим ангелом во плоти был гестаповский следователь Вернер Штрелитц. Этакий добряк, гордившийся тем, что его прадед служил стрельцом у русского царя, отсюда и фамилия такая - Штрелитц. «Хороший был человек, - вздыхает Потемин,- мы с ним дружили». А несколько минут спустя подтверждает, что каждого второго из побывавших на допросе у любого из следователей ГФП, в том числе и у Штрелитца, отправляли на расстрел.
Тяжко все это слушать. Зал облегченно вздыхает всякий раз, когда председательствующий объявляет перерыв.
В перерыве подходим к Аганину. Судебная этика такова, что до выступления свидетеля журналисты общаться с ним не должны. Теперь же, когда суд выслушал Аганина, можно подойти, поздороваться, порасспросить. Кстати, и претензию-обиду высказать. Как же так, ходит в друзьях «Красной звезды», бывал у нас неоднократно, не один час провели вместе за интересными беседами. И ни разу словом не обмолвился о том, как изловил и доставил чекистам 37-й армии фашистского генерала.
- А теперь-то вы откуда узнали об этом? - смутился бывший разведчик.
- Теперь об этом знают все, кто присутствовал на процессе: председательствующий рассказал, характеризуя свидетеля Аганина.
- Тот случай с генералом не самый трудный...
- А какой был самым трудным?
Задумался, брови нахмурил:
- О самом трудном еще никому и никогда не рассказывал. Первыми узнаете. Самый трудный это когда позвали меня под каким-то предлогом в комнату пыток. Чтобы проверить, как реагировать буду. А там человека избивали. Глянул на него - и едва на ногах устоял. Показалось, что это мой брат. Очень похож. И на меня, одетого в гитлеровскую форму, вроде бы удивленно глянул. Но уверять не могу, что брат: видел- то мельком. И лицо у него - маска кровавая... Потом много страшного повидать довелось, постепенно разубедил себя, что это был брат. А когда вернулся с войны, узнал: последняя весточка от брата как раз из тех мест, из Донбасса, пришла. Даже район совпадает. Вот как получилось. И если это действительно был брат, то что он думал обо мне в ночь перед расстрелом?..
Показания свидетелей еще и еще раз возвращают нас в то страшное, страшное время.
Вот арестован боец Варвинского истребительного батальона Михаил Прихода, у которого, как подозревали гестаповцы, якобы хранился пулемет. Прихода начисто отрицал, что имеет оружие, но к нему в камеру и день, и два - по нескольку раз - ходит переводчик и палач в одном лице. Потемин. «Отдай пулемет, - уговаривает елейно, - и выйдешь на свободу!». «Отдай!»- но ведь кто-кто, а уж Потемин-то отлично знал, что по приказам Гитлера советских граждан, сдавших оружие, в обязательном порядке расстреливали.
- Знали? - уточняет председательствующий.
- Да, знал, - выдавливает из себя подсудимый.
Трибуналу стали известны десятки и сотни имен советских патриотов, не склонивших перед гитлеровцами головы, оставшихся верными Родине, присяге, коммунистическим идеалам. О подвигах многих из них никто ничего не знал все эти тридцать с лишним лет - ни друзья, ни родственники. Потому что только враги, только их подлые прислужники вроде Потемина видели их несравненное величие духа, слышали их прощальные слова перед казнью. Но враги молчали, как молчали и стены гитлеровских камер, — лишь теперь, больше тридцати лет спустя, суд заставил их заговорить. И пусть в каждой семье, прочитав эти строки, с любовью повторят имена своих близких, имена героев, павших от рук палачей.
Летом сорок второго в ГФП-721 доставили партийного работника Григория Ивановича Котеленца. Он руководил партизанским движением на временно оккупированной территории Черниговской области. Зверски били старого коммуниста - Потемин старался не меньше других; зверски истязали, но не узнали от него ни имен товарищей, с которыми был связан, ни подпольных явок. Сестра Котеленца - Е. И. Пирог, чьи показания огласили в трибунале, вспоминает: «Когда бы я ни приходила на свидания с братом, всегда он был избитый, расплюснутые пальцы рук кровоточили, оставались без изменений одни лишь глаза, глаза не сломленного пытками человека».
Потемин ерзает на скамье, слушая показания свидетельницы, пытается возразить, но потом замолкает: подробности, приводимые в документе, убеждают его, что за фашистскими карателями зорко наблюдали подпольщики, что они ничего не забыли и ничего не про- стили. Припертый к стенке неопровержимыми фактами, выродок признает, что, да, участвовал в истязаниях Котеленца и его связной Матрены Давиденко, что, да, погибли они, ни в чем не признавшись, погибли втроем, потому что вместе с Матреной Давиденко расстреляли ее грудного ребенка. Григорий Котеленец, падая под автоматными очередями, крикнул: «Да здравствует Советская власть!», «Смерть фашистам!»
Почти в те же дни полиция арестовала парашютиста Долгих, направленного советским командованием в тыл врага со специальным заданием. Потемин ничего не добился от мужественного десантника. Долгих расстреляли. В руки гитлеровцев попали крестьяне, которые укрывали Долгих, в том числе боец Прилукского истребительного батальона Григорий Андреевич Путиленко. Все изведал Григорий Путиленко: и резиновые дубинки, и мрачный карцер, и угрозы, что погибнет, если не сознается в том, что приютил Долгих. К счастью, Путиленко удалось бежать. И вот он, искалеченный на допросах, входит в зал трибунала, входит как обвинение, как само возмездие...
Долгие годы пропавшим без вести числился офицер Дмитрий Петрович Шатило. И вот что выяснилось в ходе судебного процесса.
Декабрь 1942 года. Советское командование забросило в немецкий тыл со специальным заданием разведгруппу во главе с майором Шатило.
Только развернулась группа - кто-то навел на нее агентов ГФП-721. Разведчиков допрашивали сутками. Истязали иступлено. Потерявших сознание патриотов обливали ледяной водой, чтобы привести в чувство, - и снова допрашивали, и снова били. Нина Михайловна Демьянова, выжившая чудом, по сей день не в силах избавиться от кошмаров, пережитых в тюрьме. Майор Шатило стойко держался, не признавался ни в чем, другие бойцы равнялись на него, а Потемин неистовствовал: «Мы вас заставим говорить!»
Нина Михайловна свидетельствует: «Потемин приволок меня на допрос. В комнате находился Шатило, лицо его - сплошная кровавая рана - почти не узнать. «Будешь молчать, сделаем и с тобой то же самое!» - грозил он. Потемин бил меня, издевался, я часто теряла сознание, но, приходя в себя, как проклятое видение лицезрела все того же Потемина. «Выдай радиошифр,- домогался он. - Куда ты его дела? Пойми, всю твою группу расстреляли, я сам там был, сам видел, чего ты ждешь, на что надеешься?».
Опустив плечи, судорожно протирает подсудимый большие, в роговой оправе, очки, долженствующие, по всей видимости, укрупнить мелкое, злое лицо. Сейчас председательствующий ведет заключительный допрос: он выясняет, как же сидящий за барьером человек сумел преспокойно жить все эти годы, как же смог преуспеть, пробившись в кандидаты наук и на уважаемую кафедру в уважаемом вузе? «Поэмой» звучит автобиография, смастеренная Потеминым сразу после войны: в ней правильными оказались только фамилия и год рождения. Bce остальное - вранье, беззастенчивое вранье. Вот он, лейтенант, «ведет» во вражеский тыл группу разведчиков липа. Сочинял ее, надеясь, что никто из части, где служил, не остался в живых. Вот он, подавшийся «для конспирации» к немцам, создал, якобы по указанию Г. И. Котеленца, «диверсионную группу», - в нее включены люди, расстрелянные к тому времени гестаповцами. «Организовал» печатание четырех тысяч листовок. Но ближайший помощник, оказавшийся, как ныне выяснилось, пособником гестапо, показал в трибунале, что нет, отпечатать удалось не четыре тысячи, а четыреста штук. Потом, в ходе следствия, эта цифра снизилась до сорока, а уже на самом суде - до одной, да и то отпечатанной в день вступления в город наших войск. Чтобы было с чем прийти к представителям советского командования... Работая у немцев, «постоянно предупреждал» подпольщиков о грозящем им аресте. Кого предупредил? В сорок втором, отвечает, патриота Войнова, и даже не краснеет, когда ему объясняют, что Войнов расстрелян фашистами еще в сорок первом. Кого еще? Руководителя подполья по фамилии Харьковский, - и снова не смущается, когда ему сообщают, что такого руководителя в природе не существовало. Настаивал, уже в трибунале, что предупредил о готовящемся аресте подпольщиков Халита Юнисова и Августину Богоявленскую, но потом признал, что и это липа...
Но не об этом сейчас речь. Главное, что суд состоялся, возмездие совершилось.
Город Орел. Его крылатое имя закреплялось в памяти поколений раньше, чем достигали они пионерского возраста, брали в руки школьный учебник географии. Закреплялось и потому, что крылато, и потому, что песня всегда напоминала: «Иркутск и Варшава, Орел и Каховка...». Песня про гражданскую. В Великую Отечественную Орел снова стал этапом большого пути. Вспомним: на опасный для нас излом линии фронта под Орлом, на так называемый Орловский выступ, фашисты делали ставку как на «кинжал, направленный в сердце России». Отсюда они намеревались развить наступление на Москву. Войска Брянского фронта по плану операции «Кутузов» могучим ударом выбили из гитлеровской лапы угрожающий «кинжал». 5 августа 1943 года они освободили город, а к 18 августа Орловского выступа, как и оборонявших его вражеских дивизий, не существовало.
Освобожденный Орел. Первое, о чем со слезами на глазах рассказали воинам его жители, - трагедия Медведевского леса. Он рядом, близко. Перед тем как бежать из Орла, оккупанты три дня перевозили из тюрьмы в лес арестованных гестаповцами советских патриотов. И три дня доносились из Медведевского леса автоматные очереди, винтовочные выстрелы. А дальше в рассказе орловчан шло такое, во что не хотелось верить: там, в лесу, среди гестаповцев было и несколько предателей.
Еще до освобождения Орла фронтовые чекисты знали, что на территории Орловской области действовала 580-я группа ГФП. Она и учинила массовую казнь в Медведевском лесу. Военные преступники из ГФП-580 - нацисты Клееберг, Горни, Редигер, Бендикс и другие, кто сразу после войны, кто позже - были выловлены органами государственной безопасности СССР и ГДР, предстали перед судом и получили по заслугам. А те несколько предателей, о которых рассказали воинам- освободителям орловчане? Они словно сквозь землю провалились. С годами уточнялся перечень их преступлений, выяснилось, что эти подонки выдавали гестаповцам и лично расстреливали коммунистов, комсомольцев, партизан, подпольщиков не только в Орловской, но и в Брянской, Смоленской, Могилевской областях.
Вот рассказы очевидцев о трагедии в Брянске. За несколько дней до отступления из города немецко-фашистские палачи вывезли из тюрьмы и расстреляли в двух километрах от Брянска, на так называемом Пробном поле, не менее четырехсот пятидесяти человек - партизан, подпольщиков, геройски дравшихся с оккупантами. Горожане подчеркивали: вывозили из тюрьмы заключенных и убивали их, помогая гитлеровцам, семеро выродков, продавшихся врагу.
Эти же семеро упоминались и очевидцами трагедии в Бобруйске. Там тоже, перед бегством из города под натиском Советской Армии, фашисты учинили жестокую расправу над арестованными. В течение одних суток - в конце июня 1944 года - было уничтожено около двухсот героев подполья. Свидетели показывали «Конвоиры разговаривали по-русски; они же, конвоиры, расстреливали обреченных из автоматов и карабинов, со стороны ям-могил доносились угрозы и злобные ругательства». И еще добавляли свидетели: «Выгрузив жертвы из машин, конвоиры раздевали патриотов до нижнего белья и связывали им руки за спиной, - одежду потом делили между собой».
От Орла до границы СССР был прослежен черный путь отщепенцев. А дальше след обрывался...
Лишь тридцать лет спустя, выполнив необыкновенно трудоемкую работу, тот потерявшийся было след все- таки нашли офицеры из Управления КГБ по Орловской области. Это - товарищи Яковлев, Сыщиков, Кузьмин, Константинов, Ильин, Соколов, Селин, Герасимов. Как нашли? Про то коротко не написать: шестьдесят томов составляют следственные материалы! Вот лишь детали, которые, может быть, дадут некоторое представление об особом для орловских чекистов поиске. Особом потому, что ветерок, доносивший в город шелест ветвей Медведевского леса, был, если хотите, как упрек: время-то летит, складывается в десятилетия, а несколько выродков, что предали Родину, до сих пор не найдены, не наказаны...
Об одном из провокаторов и карателей чекистам было известно, что в списках ГФП-580 он значился Прохором Блохиным, 1910 года рождения. Завербован в сентябре сорок второго. Жителям временно оккупированных территорий, видевшим и на себе испытавшим кровавую деятельность тайной полевой полиции, запомнился как «Прошка-палач». Крепкого сложения, рыжеват, свиреп. Носил гитлеровскую медаль...
Следователь КГБ в сотый раз перечитывает запись данных о преступнике. И, право, доложи он старшим, что на основе этих данных сколько-нибудь целенаправленный розыск невозможен, трудно было бы возразить. Действительно, никакой стоящей «зацепки». Имя и фамилия? Но один отщепенец изменял их, поступая в услужение к гитлеровцам, другой - после разгрома ГФП. Некоторые приметы внешности? Но тогда ему было немного за тридцать, а теперь, если жив, под семьдесят.
Если жив... Непрошенно приходит мысль, что, скорее всего, где-то настигла фашистского наймита партизанская пуля, оттого и оборвался его след на земле...
Но нет, так нельзя! Чего проще дотянуть логическую нить до вывода о невозможности решения задачи. Это ли в традициях чекистов?
Значит, имя и фамилия? Разве не бывало, что преступник скрывался где-нибудь в тиши под своей настоящей фамилией в хитрой надежде: ее-то, настоящую, чекисты брать в расчет не будут. К тому же это немалый риск перемена фамилии. Случайная встреча. Земляк, ничего не знавший о тебе долгие годы, радостно приветствует: «Здорово, Иванов!» А ты почему-то Петров... Кто не насторожится? Значит, все-таки есть резон поискать проклятого Прошку среди Блохиных, да простят это органам государственной безопасности сотни тысяч безупречных людей с такой же фамилией.
Поискать среди сотен тысяч! А сколько городов, сел, деревень, где мог затаиться преступник? Опять счет на тысячи.
Стоп! Из необъятной территории розыска можно до поры исключить Орловщину, Брянщину, Смоленщину, Могилевщину: страшно появиться там палачу - опознают!
Далее- - дата рождения. Из сотен тысяч сразу исключаются лица, родившиеся до и после 1910 года. Сужение круга - движение к цели. Работать!
Не таким резким скачком, как в самом начале, однако обнадеживающе сужался круг поиска после каждой из множества командировок, после каждой из многочисленных встреч и бесед в разных концах страны, после изучения уймы архивных документов. И пришли дни, когда круг замкнул в себе лишь единственную область, затем - единственный район, населенный пункт и наконец -единственный дом!
Арестованный Павел Блохин (уже не было никаких сомнений в том, что это и есть «Прошка-палач»), оценив свое положение, занял «реалистическую» позицию: «Что ж, наказывайте, был грех. Наголодался, смалодушничал. Согласился работать за паек в какой-то там команде. А она страшная оказалась, людей казнила- расстреливала! Своими глазами видел», - переходил на доверительный шепот Блохин. Но он-то в этой команде что? Мелкая сошка - дрова колол, сапоги фельдфебелю чистил...
- Как звали фельдфебеля, не помните?
- Оскаром. По фамилии - Клееберг. Разве забудешь? Доставалось от него, когда хорошая вакса кончалась...
- Двадцать третьего апреля сорок шестого года старший фельдфебель гэ-эф-пэ-пятьсот восемьдесят Оскар Клееберг, допрошенный в качестве обвиняемого, показал: «Был такой приказ полицайкомиссара Грамша: кто находится на месте расстрела арестованных, тот должен в обязательном порядке сам расстреливать, чтобы не было разговоров о том, что один расстреливал, а другой присутствующий этого не делал». Что скажете по этому показанию вашего фельдфебеля,
Блохин?
- Не стрелял я, упаси господь!
- Почему там, в гэ-эф-пэ, Прохором назвались?
- Пашка, Прошка - - велика ли разница? Все одно отвечать. Виноват, чистил душегубу Клеебергу сапоги, наказывайте...
Однако очень скоро понял арестованный, что игра в простачка ничего ему не даст: следователь одну за другой выдвигал против него прямые улики. И когда все, казалось, подходило к концу, «простачок», не скрывая злорадства, спросил:
- А что, гражданин следователь, отведенное вам по закону время, чтобы со мной разобраться, истекает? Сочувствую. Дел-то непочатый край. Про Блохина Прохора вы очень здорово все разузнали. Но я-то не Прохор, а Павел. И не Блохин! Моя фамилия - Швейгер, докажу это очень даже просто. А вы попробуйте теперь доказать, что именно Павел Швейгер был карателем, грабил, расстреливал.
- Так... Зачем же понадобилось менять фамилию?
- He нравилась. На немецкий манер звучала. Представилась возможность - поменял. Чтоб свои же, советские, не притесняли за фамилию. Ну, а какого-то там Прошки Блохина провинности поначалу на себя взял, чтобы вам угодить, тем более, свои грешки были. Думаю, какой теперь с меня, старика, спрос, простят за давностью. А вы вон что Прошке Блохину шьете! Мне, Швейгеру, это не подходит. Разве что опять-таки на фамилии отыграетесь?
- Фамилия у вас, Швейгер-Блохин, нормальная. Мне известен человек с такой же фамилией, который был военным летчиком, майором, заслужил на войне три ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, два ордена Красной Звезды. Да и вы его должны знать, родной брат ведь! Вот он, жаль, про вас правды не знал...
- Он жив? - не выдержал подследственный.
- К сожалению, нет, недавно умер. А другой ваш брат жив. И вы с ним встретитесь. На очной ставке.
Таков Швейгер-Блохин. Другой, - из тех «нескольких»- Марунов, в ГФП назвался Вилли Цандером, немцем из Поволжья. За Цандером и числились страшные преступления. А Марунов после войны вновь стал Маруновым. На подобный прием уповал также Романников: повсюду, где палачествовала ГФП, он именовался Борисом Романенко, украинцем. Пусть, мол, потом ищут Романенко. А в том, что искать их будут, они не сомневались.
Что-то свое, «особенное», было у изменников Серебрякова, Мельника, Макрушина, Лунева. Но больше Было общего: все они добровольно стали гитлеровскими наймитами. Все были награждены гитлеровскими медалями. Все, кроме Романникова, после изгнания оккупантов с территории СССР были зачислены в гитлеровские части, с оружием в руках сражались на стороне противника.
И вот наступает час расплаты; в орловском Дворце культуры строителей начинает работу выездная сессия военного трибунала ордена Ленина Московского военного округа. Суд рассматривает уголовное дело по обвинению семерых изменников Родины в совершении ими тягчайших злодеяний.
Замер переполненный зал. Тишина такая, что кажется, будто доносятся сюда и отчетливо слышны порохи Медведевского леса...
Один и тот же вопрос задает подсудимым председательствующий в трибунале полковник юстиции Юрий Григорьевич Барановский. Он - многоопытный юрист н не менее опытен как солдат. Младшим командиром - на берегу Прута бок о бок с пограничниками - встретил Юрий Барановский тяжкий июньский рассвет сорок первого. Горел в окопе, накрытый вражескими минами, тонул под бомбами в ледяной и бешеной Кубани - все пережил, что выпало на долю, но никогда, даже в критические минуты, не терял веры в Победу. Всю войну провели на фронте и его отец, мать, сестра. Так вот - по праву юриста и по праву солдата - спрашивает он, не в силах скрыть волнения:
- Что заставило вас предать Родину, переметнуться к фашистам - нашим злейшим врагам?
- Не поднимая голов, стараясь выглядеть внешне как можно мельче, незаметнее, отвечают каратели:
Серебряков. В лагере нас, военнопленных, морили голодом, нам грозили расправой.
Лунев. Я неграмотным был, ни книг, ни газет не читал, не сумел ни в чем толком разобраться, когда согласился на вербовку.
Звонкий голос в зале: «Иван Сусанин тоже газет не читал!..»
Председательствующий просит зал строжайше соблюдать тишину. Но он и сам понимает: разве легко сдержаться, слушая, как петляют и выкручиваются фашистские прихвостни?
Допрос продолжается...
Романников. Испугался я, видя, что творится в лагере, собственная шкура дороже всего показалась, а тут предложили хорошую работу...
Романников так и сказал, объясняя трибуналу свое отступничество: «предложили хорошую работу». Он даже не заметил, насколько подло и кощунственно прозвучало в его устах святое и великое слово - -работа, прозвучало в присутствии сотен тружеников, вдохновенно творящих новую, коммунистическую жизнь на земле. Для него же, Романникова, для шестерки его приспешников по кровавому ремеслу работой и в самом деле были слежки, аресты и расстрелы советских патриотов. Ради спасения презренных своих душонок. Ради жалкой похлебки из гитлеровского котелка.
Страшная подробность, выяснившаяся при судебном разбирательстве, снова вызвала во Дворце культуры, где заседал трибунал, взрыв негодования. После трех дней беспрерывных казней в Медведевском лесу, погубив более трехсот пятидесяти героев антифашистского подполья, каратели почти столько же времени пьянствовали, насильничали - «отдыхали». Еще шевелилась и стонала земля над ямами-могилами, а Романников, лакействуя перед нацистами, играл для них на губной гармошке увеселяющие мотивчики. Еще эхо выстрелов и матерной брани конвоиров металось над испуганными деревьями, а Марунов, паясничая, ублажал присутствующих цирковыми номерами: ставил на лоб стакан с водкой, танцевал, переворачивался, не разлив ни капли, и под аплодисменты выпивал выигранный приз.
...Второй месяц продолжается процесс. Перед членами трибунала высятся тома следственных материалов, в которых до мельчайших деталей прослежен сатанинский путь вражеской карательной команды. Далекое и кошмарное военное лихолетье как бы вернулось и на улицы Орла, и в сердца его жителей - о суде над преступниками возбужденно говорили на заводах, дома; в трибунал и местным чекистам почтальоны ежедневно доставляли переполненные сумки писем, открыток, телеграмм. Палачей судили не только мористы - их судил народ. «Спасибо вам, солдаты Дзержинского, - писали рабочие Орловского сталепрокатного завода имени 50-летия Октября. - За то, что нашли и разоблачили банду отщепенцев, повинную в бесчисленных злодеяниях. За то, что являетесь нашим верным революционным щитом и мечом. Пусть знают бывшие каратели, сидящие на скамье подсудимых: мы отворачиваемся от них с проклятиями и гневом!»
Подсудимых возили в трибунал через весь Орел, через город, давно уже залечивший раны войны, светлый, нарядный, помолодевший. Возили мимо памятника героям; по улицам, носящим имена героев. Вот здесь стояла когда-то гостиница «Коммуналь» - подпольщики взорвали и сожгли ее осенью сорок первого, уничтожив до ста пятидесяти фашистских офицеров. Здесь, на углу Комсомольской и Посадской улиц, в многоэтажном здании размещался штаб вражеского соединения - герои и его взорвали. В Орле и на Орловщине стрелял в гитлеровцев каждый дом, каждое партийное и комсомольское сердце - оккупанты, их прихвостни никогда не ведали покоя. Металл оплавлялся, когда вспыхивал бой, камни исчезали в пламени. Только люди, простые и великие советские люди - не из металла, не из камня - выживали в этом аду, оставаясь бойцами, оставаясь верными долгу, верными Родине. Они - бойцы подполья, бойцы партизанских отрядов - оставались ее сыновьями, хранителями, ее державной опорой.
В Орле местные краеведы, следопыты показали нам интереснейшие документы, найденные в архивах или подобранные когда-то на полях минувших сражений. Вчитайтесь в них, товарищи, вдумайтесь гордость вызывают они в сердце!
«... Рост партизанского движения во всем тыловом районе принимает настолько угрожающие масштабы, что я со всей серьезностью должен обратить внимание на эту опасность. Необходимы безотлагательные действия крупными силами, чтобы своевременно ликвидировать эту опасность...» (Из доклада начальника тылового района группы армий «Центр» генерала Шенкендорфа генерал-фельдмаршалу фон Клюге.)
«В мрачную пустыню вступили мы на танках. Кругом ни одного человека, но всюду и везде, в лесах и болотах, носятся тени мстителей. Это партизаны. Неожиданно, будто вырастая из-под земли, они нападают на нас, рубят, режут и исчезают, как дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. Мстители преследуют нас на каждом шагу, и нет от них спасения.
Проклятие! Никогда и нигде на войне мне не приходилось переживать ничего подобного. С призраками лесов я не могу воевать. Сейчас я пишу дневник и с тревогой смотрю на заходящее солнце. Лучше не думать. Наступает ночь, и я чувствую, как из темноты неслышно ползут, подкрадываются тени, и меня охватывает леденящий ужас». (Из дневника убитого партизанами гитлеровского офицера.)
Вот как было в суровую годину.
Вот как вели себя честные советские люди, когда настала пора испытаний.
Вот как служили они любимой Отчизне.
Эти, что сидят за барьером, совершили самое тяжкое изменили народу, стране, долгу.
Последние слова приговора:
- ...к высшей мере наказания - расстрелу! - тонут в буре аплодисментов всего зала.
Другим он и не мог быть — справедливый и заслуженный приговор.
После Ясско-Кишиневской операции, как, бывало, всякий раз, когда очищались от гитлеровской нечисти крупные территории, миру стали известны холодящие сердце факты: в Молдавии фашисты расстреляли, сожгли, заживо закопали в землю шестьдесят четыре тысячи человек. Пыткам и надругательствам подверглись двести семь тысяч мирных граждан...
В августе сорок четвертого нам довелось видеть многие только что вызволенные из-под фашистского ига молдавские села и города. Не передать, с какой безграничной радостью и благодарностью встречали родную армию исстрадавшиеся в неволе люди. Не дожидаясь повесток, мужчины шли на призывные пункты, чтобы стать воинами. Запасные полки в те дни получили заметное пополнение. Новобранцы под началом обстрелянных сержантов наскоро постигали самое необходимое бойцу.
- Рав-няйсь... Смирно! - командовал старшина с орденами на груди и, оглядывая не совсем еще ладную шеренгу, шел от солдата к солдату, поправлял дружелюбно, показывал, как надо стоять в строю. - И чего это у тебя, парень, локотки наперед тянутся? Это у них, у немцев, такая стойка. Ну, ясное дело, повзрослевши в оккупации, других солдат не видел. Вот и стоишь по- ихнему... Как зовут-то?
- Александр Мироненко!
- Ничего, Мироненко, научишься, справным солдатом будешь!
И тут торопливо выходит из казармы на плац офицер штаба, делает старшине знак, что докладывать не надо, времени, мол, не хватает, и обращается к строю: Кто умеет чертить - шаг вперед!
Шаг сделал Мироненко. Первый шаг прямо-таки необыкновенного для новобранца продвижения по службе. У кого почерк хороший? У Мироненко! Кто может отредактировать донесение? Мироненко! Вызвали куда- то переводчика, а надо срочно прочесть немецкий текст. «Давайте я попробую», - предлагает свою услугу писарь полкового штаба Мироненко. И прочел. Ну молодец! И вот уже он усердствует в оперативном отделении штаба дивизии. Те, кто одновременно с ним солдатское обмундирование надел, пришли в Берлин заканчивать войну в ефрейторских званиях, да и то не все, а Мироненко - в погонах старшего сержанта! Да еще с орденом Славы на груди (как теперь выяснилось, ворованным). Ко всему этот старший сержант оказался еще и поэтом: целую тетрадь стихами исписал! Ну как не взять такого человека в редакцию солдатской газеты?
Покопавшись в архивах, можно, конечно, установить, кто именно осаждал кадровиков, добиваясь перевода все умеющего писаря в свои канцелярии, кто под- писывал его характеристики, открывающие доступ к штабным сейфам, кто доказывал начальникам, что никак не обойдется без него, «поэта-фронтовика», редакция военной газеты. Слишком много времени прошло, едва ли есть необходимость в этом. И все-таки с полной готовностью отвечать за свои слова мы скажем: лопухами и шляпами были вы, товарищи! Ведь даже без особых усилий обводил вас вокруг пальца усердный писарь, который незадолго до знакомства с вами был не Мироненко, а Мюллером. А чуть раньше Юхновским. И тогда покровительствовал ему матерый гитлеровец Кернер. Пусть хоть теперь тот из вас, кто посылал старшего сержанта Мироненко с поручением в Магдебург, узнает, как он провел там один вечер.
Он еще днем нашел по заученному адресу - Бисмаркштрассе, 51 особняк, который не раз видел на фотокарточке, стоявшей на столе у Кернера. Прошествовал мимо, только в сгустившихся сумерках вернулся, поднялся на крыльцо. Ему открыла средних лет немка.
-Здравствуйте, фрау Марта!
Всмотревшись в старшего сержанта, всплеснула руками:
- Мой бог! Не может быть... Это вы, Алекс?
женщина
Фрау Марта узнала молодого человека, который неизменно стоял рядом с ее мужем почти на всех фотокарточках, присланных из России. Муж писал, что это лучший из его помощников.
По поводу этих карточек и писем и пришел сюда Мироненко. Он убедительно объяснил фрау Кернер: в ее интересах, в интересах ее мужа, который скоро вернется, всю присланную из России корреспонденцию нужно немедленно уничтожить. И целый вечер они перетряхивали семейные альбомы Кернеров, бросая в камин открытки, письма, многочисленные фотографии.
Одну карточку Алекс задержал в руках, жаль было с ней расставаться. Объектив запечатлел его рядом с гестаповским начальством. В новенькой форме вермахта. С медалью на груди, с пистолетом на поясе. Стоял он браво. И локти сами собой тянулись наперед...
В Ромны, небольшой городок на Сумщине, гитлеровцы вошли не с ходу, как планировали. Подразделения Советской Армии дрались до последнего. Даже раненые не искали спасения: стреляли, пока хватало сил, пока глаза различали Мышиную расцветку Вражеских мундиров.
Тот день, вспоминают очевидцы, клонился к закату - раскаленный солнцем и снарядами день. Обезлюдели внезапно улицы. Притихли мертвенно. Лишь на площади, одетая по случаю в черные торжественные костюмы, маячила кучка местных предателей, держа наготове хлеб-соль. Верховодил ею бывший агроном, одетый теперь в отличие от остальных в помятую, провонявшую нафталином форму, то ли деникинскую, то ли петлюровскую, весь лакейски подобранный, по-собачьи вытягивающий кадыкастую шею, чтобы, паче чаяния, не прозевать столь долго ожидаемой минуты.
И он не прозевал - Иван Юхновский, действительно петлюровский офицер, действительно закоренелый антисоветчик, ловко скрывавший свое прошлое. Как только старший оккупационный чин вышел из машины, Юхновский первым на полусогнутых подскочил к нему, выказывая словами и видом своим неописуемое подобострастие.
- Рад служить великой Германии! - услышала площадь раболепный вскрик.
Отошел он от своего нового хозяина в должности руководителя городской полиции.
- А на тротуаре, чуть поодаль, укрываясь в тени деревьев, стоял в ту минуту сын предателя и его духовный отпрыск Александр Юхновский. Сейчас, разоблаченный органами государственной безопасности, он всем существом своим силился затушевать настоящие чувства, проявленные им тогда, тридцать с лишним лет назад, но ему не скрыть одного: вскоре в той же полиции, под крылышком семейного наставника, по благословлению деда - протоиерея, оказался и он - Александр Юхновский.
Этому предшествовали краткосрочные «курсы»: отец-палач пригласил сына, будущего палача, на первую массовую казнь. Дескать, смотри, как я расправляюсь с теми, кто в революцию встал против меня, - смотри и учись. Старый волк не сомневался: молодой оправдает его надежды. С колыбели впрыскивал он в него озлобленность. Кровавую, беспощадную. К новым Домам. К новым заводам. К новым людям.
Двенадцать человек тогда повесили в Ромнах. Двенадцать патриотов. Двенадцать храбрейших. Александр Юхновский все время канючил в суде: «Простите меня, малолеткой ведь был, страх обуял, что с ним поделать?!». А эти двенадцать, повешенные в его присутствии, среди которых были и его ровесники, 1925 года рождения, пошли на смерть гордо, не унижаясь мольбой о пощаде, пошли, бросив вызов врагу, веря в победу. До сих пор в сердцах жителей города звучат их страстные возгласы:
- Да здравствует Советская власть!
- Мы погибаем, но за нас отомстят!
Судебные процессы над такими, как Юхновский, приоткрыли завесу над многими тайнами. Сегодня заговорил еще один из палачей. Не мог не заговорить: следователи - московские чекисты выявили каждый его шаг, каждое преступление. Характерно: Юхновский, такой красноречивый, когда ему хочется разжалобить суд, выторговать что-либо для себя, тут как бы проглатывает язык, подолгу молчит, заикается, что-то бормочет, закатив глаза. Но факты, страшные факты, которыми переполнены тома обвинения, вынуждают его возвращаться в прошлое, сознаваться, приводить против желания свидетельства массовой духовной стойкости, массовой ненависти к врагу, жившей в непокоренном советском народе.
Кто не знал до войны в Ромнах Михаила Вознесенского, прозванного «хлебопеком», потому что директорствовал на хлебозаводе? Трудолюбивейший человек, общественник по велению партийной души, со всеми, особенно с молодежью, точно родной. Грянуло грозное военное испытание, - Вознесенский остался в подполье. Вернулся - по заданию райкома - на хлебозавод. Многие месяцы, обманывая оккупационные власти, снабжал хлебом партизан-ковпаковцев, друзей-подпольщиков, семьи командиров Советской Армии. Видимо, в чем-то дал промашку директор - гитлеровцы арестовали его. На допросах били зверски: и резиновыми дубинками, и прикладами карабинов, и сапогами. Состязались, признается Юхновский, кто изощреннее ударит.
Когда в Ромны, чтобы опекать тылы 6-й армии Паулюса, прибыла команда отборных карателей- тайная полевая полиция ГФП-721, - Юхновский сразу же перешел в нее. Добровольно. Без какой-либо проверки. Оделся в германскую форму, получил германский пистолет, встал на полное германское котловое и денежное довольствие. Из города Ромны вскоре перебазировался в Путивль, чтобы «утихомирить бандитов Ковпака».
Именно в Путивле переводчик-палач стал палачом- переводчиком. Носился по городу и окрестностям, вынюхивал, высматривал, рядясь под местного. Выезжал на расстрелы и сам расстреливал. Пытал партизан и подпольщиков, лез вперед, превосходя подчас в изуверстве кадровых гестаповцев.
Долгие годы искали в Путивле следы Филиппа Скиданова- участника боев на озере Хасан, орденоносца, перед фашистской агрессией заведовавшего военным отделом райкома партии. Во время оккупации не раз появлялся Скиданов в городе, встречался с нужными людьми: после его ухода гитлеровцы всегда недосчитывались или своего офицера, подстреленного на улице, или склада, взлетевшего на воздух, или документов, похищенных средь бела дня.
Однажды Скиданов не вернулся на партизанскую базу. Сидор Артемьевич Ковпак лично руководил поисками своего разведчика, но так и не нашел.
- Да, этот человек прошел через мои руки, - выдавил Юхновский, когда ему на следствии показали фотографию Филиппа Скиданова.
Хорошо знала свидетельница Богачева Лиду Кочетову. Горячая была дивчина. Фашистов ненавидела смертельно. Всеми силами помогала партизанам. Да не всегда осторожной была - арестовали ее. Юхновский вместе с другими карателями зверски истязал Лиду. Но ни слова не добились изверги от комсомолки...
Через несколько дней на рассвете, чтобы никто из местных жителей не видел, увезли гитлеровцы подпольщиков в район кирпичного завода, где обычно совершались казни. У ямы под пулями Лида Кочетова стояла рядом с Филиппом Скидановым. Комсомолка и коммунист. По годам - дочь и отец. Два боевых друга. Два солдата.
И когда защелкали затворы вражеских карабинов, Лида запела «Интернационал». Скиданов, последней волей вскинув поседевшую голову, подтянул:
Вставай, проклятьем заклейменный...
Жители Путивля не знали, кто пел, кто погиб в то утро, но они утверждают, что песня донеслась до каждого дома, до каждого сердца.
И только теперь, на суде, открылись последние часы жизни и подвига коммуниста Скиданова...
Огромное море людской крови раскинется перед вашим мысленным взором, эхо миллионноголосого стона истязаемых донесется до вас из времен военного лихолетья, когда вы до конца постигнете страшную суть этих трех букв - ГФП. Тайная полевая полиция была создана Гитлером как секретный инструмент безграничного террора для подавления антифашистской деятельности на территории оккупированных вермахтом стран. В приговоре Международного Нюрнбергского трибунала подчеркнуто: ГФП в большом масштабе совершала военные преступления и преступления против человечности.
Задачей 721-й группы ГФП была, как уже говорилось, охрана тылов армии Паулюса, а после ее разгрома - армии Холлидта, прозванной немцами «армией реванша за Сталинград». Общая задача конкретизировалась на местах шефами групп ГФП. Так, фельдполицайкомиссар Майснер, под началом которого служил подсудимый Юхновский (друг и покровитель Юхновского Кернер был заместителем Майснера), потребовал, когда началось советское наступление в Донбассе: «Арестовывать всех гражданских лиц, которые хотя бы издали посмотрят в сторону воинских колонн, эшелонов, штабов, казарм. Уничтожать всех заподозренных в связях с партизанами, парашютистами...» И каждый второй из попавшихся в руки майснеровских следователей лишался жизни.
- Расстрелы, - рассказывает суду Юхновский, - кодировались у нас словами «утренняя заря» или «утренний туман». Объявит Кернер: завтра - «утренний туман». Значит, засветло всем быть на ногах, с оружием...
«В начале сентября 1943 года, — гласит обвинительное заключение по делу Юхновского, - в городе Сталино (ныне - Донецк) на шахте 4/4-бис «Калиновка» вместе с другими служащими ГФП-721 Юхновский участвовал в операции по расстрелу не менее 100 человек советских граждан... Обвиняемый Юхновский на предварительном следствии по настоящему делу признал свое участие в операции по расстрелу советских граждан... и пояснил, что лично произвел 8 выстрелов в двух мужчин, которые упали в ствол шахты». Признал это Юхновский перед лицом суда. И тут выяснилось, что тогда переводчику Алексу даже не приказывали стрелять: его посылали в оцепление шахты. Он сам проявил инициативу - выхватил из кобуры пистолет и выпустил в людей всю обойму...
Судья. Объясните, почему же все-таки вы стреляли? Должна же быть какая-то побудительная причина. И здесь Юхновский сказал три слова правды:
- Мне было страшно...
Да, ему было страшно при мысли, что кто-то из карателей промахнется, что кто-то из упавших в ствол шахты останется в живых. И потом расскажет людям, как действовал на допросах и на местах казней прислужник гестаповцев Алекс. Разве не запомнила бы его молодая женщина, при аресте назвавшаяся Василисой Титаренко. «Разведчица?» - спросил следователь. Ответила гордо: «Да, советская разведчица!» Скрывать что- либо было бесполезно: у гестаповцев неопровержимые улики: ее рация на столе у следователя. Но больше она ни слова не сказала - ни о себе, ни о своем задании. Алекс бил она, стиснув зубы, молчала.
Мы навели справки. Документы военного архива по- могли установить, что под фамилией Титаренко в августе 1943 года в тыл противника была заброшена раз- ведчица «Галка» - Нина Александровна Анохина. Год рождения 1919-й. Из Горького. Воспитательница детского сада, пионервожатая в школе, инструктор железнодорожного политотдела по комсомолу... В трудный для Родины час стала разведчицей.
Бледнеет Юхновский, видя, что все больше приподнимаются завесы над кровавыми тайнами ГФП. Он лично причастен к этим страшным тайнам. Но не спешит помочь правосудию, не спешит...
И тогда председатель суда Валентина Григорьевна Лубенцова просит:
- Пригласите в зал свидетеля Аганина...
К судебному столу быстро подходит мужчина, широкий в плечах, сильный, с лицом открытым и строгим.
Сначала голос его звучит тихо, волнение, чувствуется, теснит грудь, но речь выравнивается, наполняясь горячим и гневным обличением. Подсудимый буквально на глазах становится мельче, опускается еще ниже за барьер. Он готов провалиться сквозь землю, спрятаться в тюремной камере, чтобы только не слышать жестокой правды.
- Я лично видел, — говорит свидетель, - как подсудимый в марте тысяча девятьсот сорок третьего года изощренно пытал двух партизан, доставленных под конвоем с железнодорожной станции Сталино. Никто его не заставлял, он сам, еще до прихода гитлеровца-следователя, набросился на одного из арестованных, бил резиновой дубинкой по лицу, по спине, бил, пока тот не упал. Тогда Юхновский, выкрикивая: «Ты у нас сознаешься»,- принялся топтать его. Второго мужчину, немного передохнув, ударял головой о стенку, зажимал ему пальцы рук дверью, ломал кости. В тот же день Юхновский допрашивал женщину. Она отказывалась, когда ее называли партизанкой, глухо стонала от ударов дубинкой, сыпавшихся на нее. Обозлившись, что и тут потерпел неудачу, Юхновский, свалив ее на пол, таскал за волосы, пинал сапогом, норовил попасть в живот.
Судья. Подсудимый Юхновский, подтверждаете правильность свидетельских показаний?
Юхновский. Подтверждаю с одним уточнением - пальцы рук дверью не зажимал.
Судья. Подсудимый, есть вопросы к свидетелю?
- Есть! Откуда свидетель Аганин знает все эти подробности? Где он находился в тот день?
Судья просит свидетеля удовлетворить интерес подсудимого.
- Позвольте, товарищи судьи, коснуться немного своей фронтовой биографии,- начинает Игорь Харитонович. - Я воевал под Сталинградом, в полковой разведке. Под Белой Калитвой впервые увидел преступления, совершенные гитлеровскими карателями, той самой гэ-эф-пэ-семьсот двадцать один, в которой сотрудничал Юхновский. Поле около школы, где размещалась тайная полиция, было завалено трупами советских воинов. Второй раз, тоже будучи в разведке, натолкнулся на следы гестаповцев в Амвросиевке. И там - трупы героев, изуродованные палачами до неузнаваемости...
- Когда меня вызвали в разведотдел, - продолжает Аганин, - и сказали: нужно внедриться в эту прокляую гэ-эф-пэ-семьсот двадцать один, все вызнать изнутри, - я ответил, что готов к заданию, каким бы трудным оно ни было.
- Теперь, подсудимый, вспомнили, кто перед вами? - спрашивает Лубенцова.
Юхновский блуждает глазами по залу: дальше упорствовать едва ли есть смысл...
И вот в зале раздается:
- Прошу встать, суд идет!
Начинается оглашение приговора. Напряженно вслушиваются москвичи в суровые и беспощадные слова, смысл которых один: нет прощения палачу! Нет пощады тому, кто переметнулся на сторону врага, служил ему с собачьей верностью.
- ...приговорить Александра Юхновского, - заканчивает судья, — к высшей мере наказания - расстрелу.
ОТЕЦ И СЫН
В Пятигорске мы без особого труда узнали адрес человека, о котором неприязненно думали всю дорогу, но разыскивать его дом не стали. Решили, дело очень давнее, будет гражданин таращить глаза и моргать, не понимая, какие к нему претензии. Находясь при должности, ничего противозаконного не допускал, мало ли кто долгие годы носил на него обиду - всем не угодишь. Одним словом, не пошли к нему. Другими путями - по старым документам - убедились: все было так, как и писала в Москву много лет назад Надежда Михайловна Шатило. Вот как было:
- Я снова про мужа узнать.
- Ну что вы ходите? Сказали же вам: никаких сведений! В списке живых не числится, среди погибших тоже нет. Пропал без вести. Яснее ясного.
- А мне неясно.
-Тогда объясним. Раз без вести, все можно предположить. Понимаете, все! Не исключено, к врагу перебежал. А вы ходите, выясняете.
Словно обухом по голове. Боялась, упадет, не дойдя до двери. Женщина, проводившая на фронт мужа и сына. А неумный чиновник уже что-то внушал другой посетительнице. Вот именно неумный. Ведь умный подумал бы, прежде чем произносить свое «не исключено». В документы бы заглянул, которые приносила Надежда Михайловна, и убедился бы: исключено всей жизнью майора Дмитрия Петровича Шатило, пропавшего без вести в 1942 году.
Впервые этот неугомонный человек «пропал» в ноябре семнадцатого года. Был он тогда штаб-трубачом казачьего полка. Поехал с каким-то поручением начальства в Баку и «пропал». Ненадолго, правда, вскоре объявился недалеко от Майкопа. В полку думали: только и умеет Дмитрий, что в трубу дудеть, а он, оказывается, наделен организаторским и военным талантами. Вчерашний трубач становится командиром красногвардейского отряда. Двести сорок сабель, полтораста винтовок. Сила!
Всю гражданскую войну - в сабельном звоне: командовал эскадроном, кавалерийским полком. Демобилизовался в двадцать втором. Так в автобиографии написал. Но какое там «демобилизовался», если ты коммунист и, как прежде, сутками в седле. Почти не видят тебя подрастающие дети - Ким и Ольга.
Сына назвали Кимом в честь КИМа - Коммунистического Интернационала Молодежи. Надежда Михайловна протестовала. Какую ответственность взваливаем на плечи мальчика! Всяко бывает, может, ошибку допустит в работе, и в стенгазете напишут: вчера Ким (тут каждый мысленно расшифрует: Коммунистический Интернационал Молодежи) не выполнил производственную норму. Каково? Но отец был непреклонен.
- Это, мать, от нас зависит, будет или не будет наш Ким в ладах производственными нормами.
- От нас! Где возьмешь время для воспитания? Какой-нибудь час в неделю возле сына...
То было правдой. Но и час в неделю- немало, если у отца есть о чем рассказать наследнику. Ким всегда терпеливо ждал своего часа. А когда он наступал, расспросам не было конца... «Расскажи, как вы с фланга по деникинцам ударили», «А как генерала Шкуро разбили?», «А как твой эскадрон махновцев перехитрил?» Но все это у Кима было лишь подходом к главному действию, к тому, чего без отца и вне таких военных разговоров делать не дозволялось. С независимым видом снимал Ким с коврика над отцовской кроватью красивую серебряную шашку.
- Значит, лично маршал Буденный тебе вручил?
- Тогда Семен Михайлович маршалом еще не был.
И многих других известных всей стране людей отец называл по имени-отчеству, говорил о них как-то очень по-семейному. Выходило, что он, обыкновенный командир полка, близко знал легендарных героев революции и гражданской войны, чьи портреты висели в школе и клубе. Киму это казалось невероятным. Но вот однажды в Майкоп прибыл Михаил Иванович Калинин. Весь город встречал всесоюзного старосту. А после митинга и каких-то дел в исполкоме Михаил Иванович приехал к отцу в гости, нахваливал приготовленный мамой украинский борщ, дружески отчитывал отца за то, что тот, кроме как на краткосрочных курсах командиров кавалерии, нигде стационарно не учился - времени для этого не нашел.
Незадолго до Великой Отечественной войны Дмитрия Шатило направили в Омскую область - поднимать большой совхоз. Но, когда напали фашисты, хоть и было ему за пятьдесят, доказал, что не в Сибири сейчас его место.
Бои под Калинином, ранение, госпиталь. Командировка на Урал с поручением сформировать новую воинскую часть и - внезапный вызов в Москву... Вот до этой черты удалось Надежде Михайловне кое-что выяснить о муже. А дальше - уже известное нам: пропал без вести и чиновничье «не исключено». Из Москвы на ее жалобу ответили, что офицер, допустивший бестактность, наказан: не имел он оснований бросать тень на имя боевого командира. Но, сообщалось далее, майор Д.П.Шатило действительно пропал без вести, и никакими сведениями о нем командование пока не располагает.
И без того дорогие, теперь во много крат дороже стали весточки от Кима.
«Здравствуйте, мама и сестренка Оля! Поздравьте, училище окончил с отличием, младшим лейтенантом уезжаю на фронт...»
«Прибыл в часть, назначен командиром танка. Экипаж подобрался очень дружный. Все рвутся в бой...»
После этой весточки какое-то время письма не при ходили, и вдруг принес почтальон конверт, надписанный незнакомой рукой. Вечностью показались матери секунды, пока Ольга вскрывала конверт.
«26.02.1944 г. Здравствуйте, многоуважаемые родители моего офицера К. Д. Шатило. Большая вам благодарность за вашего сына Кима Дмитриевича. Находясь в моей части, он участвовал в боях с гитлеровскими оккупантами, проявил смелость и геройство. Я представил его к званию Героя Советского Союза. В боях его танк был поврежден, и Ким получил ранение – ожог. Сейчас Ким в госпитале. Прошу, если он написал вам из госпиталя, пришлите его адрес, ибо он мне до сих пор не сообщил, где находится... До свидания, с приветом к вам командир части - полевая почта 10938, Чеховской Андрей Павлович».
Вскоре еще одно письмо:
«Посылаю песню, которую поют наши танкисты. Она про Вашего сына:
Отличный танкист-комсомолец,
Прославился Ким навсегда.
О подвиге Кима Шатило
Узнает вся наша страна...
Песню составил старший сержант Катичев, музыка его же. С приветом, комсорг части младший лейтенант дважды орденоносец...»
Подпись закручена лихо, не разобрать. Похоже, Смешенко.
Гордостью и тревогой наполняли эти письма материнское сердце. О ее Киме, таком тихом и скромном мальчике, однополчане сложили песню. Командир представил его к званию Героя Советского Союза. Узнал бы отец. Но почему не пишет Ким ни домой, ни в полк? Видно, не просто «ожог», как успокоительно сообщил А. П. Чеховской. Только бы жив остался! Какой же подвиг он совершил?
... Случилось так, что мы приехали в Пятигорск дождливой ночью. Куда податься? Надежнее всего - в горвоенкомат: там дежурный бодрствует, что-нибудь придумает.
Дежурный открыл нам комнату, где призывники проходят комиссию. Щелкнул выключателем, и мы сразу оказались «под пристальным наблюдением». Люди на портретах словно бы вопрошающе разглядывали ночных гостей. А мы, в свою очередь, разглядывали портреты. То были пятигорцы — герои войны, сегодняшние отличники боевой и политической подготовки, получившие путевки на военную службу год-полтора назад в этой вот комнате. Лицо на одном из портретов в ряду ветеранов совсем юное, можно сказать мальчишечье. Это он и есть - Герой Советского Союза Младший лейтенант Ким Дмитриевич Шатило. Под портретом описание подвига.
Танкистам было приказано выйти в тыл противника, перерезать дорогу, по которой отступали гитлеровцы, и удерживать занятые позиции до подхода наших войск. Экипаж под командой Кима Шатило прорвался в расположение врага глубже других и обнаружил большую автоколонну с пехотой. Подпустив колонну поближе, танкисты открыли по ней огонь из пушки и пулеметов, а затем устремились на автомашины, продолжая уничтожать технику и живую силу врага гусеницами. Но вот перед советским танком уже не грузовики, а тоже танки, фашистские, их много - больше десяти!
Тяжелый неравный бой. Такой, когда даже некогда сосчитать, сколько фашистских танков загорелось и сколько осталось невредимыми, изрыгающими снаряд за снарядом. Снаряды у тебя израсходованы, и товарищи твои истекают кровью, задыхаются в едком дыму. Сам ты тяжело ранен, держишься только потому, что командир, а бой не закончен, вести его надо до конца.
Собрав последние силы, Шатило идет на таран...
Подоспевшие однополчане нашли героя в нескольких метрах от его горящего танка. Ким был без сознания. Рядом лежал убитый радист. А на дороге и возле нее боевые друзья Кима увидели семь разбитых вражеских танков, пятьдесят одну автомашину, больше сотни уничтоженных гитлеровцев.
Позже офицеры специально приводили на это место молодых танкистов, чтобы те своими глазами посмотрели, какой урон способен нанести врагу только один танк, только в одном бою, если в его экипаже - богатыри, если его командир бесстрашный орел. Кстати, «Орел» был позывным рации того танка. Но об этом мы узнали уже на другой день от славных пятигорских следопытов. Они переписывались с Кимом Дмитриевичем, который после войны работал следователем, затем стал ученым - кандидатом юридических наук, преподавателем советского уголовного права. В 1964 году Ким Дмитриевич умер от тяжелой болезни. Так и не узнал о судьбе отца... И Надежда Михайловна не дожила до того дня, когда эта необыкновенная судьба неожиданно выяснилась. Нам предстояло рассказать о ней живущим в Пятигорске дочери майора Шатило - Ольге Дмитриевне и его внучке Наташе.
В ночь на 28 декабря 1942 года в глубокий тыл врага вылетела разведгруппа: командир · Шатило, заместитель командира - Горбунов, радистка - Демьянова, бойцы-разведчики Слепцов и Курепин. Самолет, сбросивший пятерых с парашютами, благополучно вернулся, но ни на другой день, как было обусловлено, ни позже группа на связь не вышла...
И вот, тридцать с лишним лет спустя, разматывая сложно запутанный клубок преступлений, совершенных на территории Ростовской области гитлеровским контрразведывательным органом ГФП-721, чекисты обнаружили в бумагах красносулинской полиции акт о задержании «большевистского парашютиста». А потом и старожилы тех мест подтвердили: «Да, было такое. Не- сколько дней гестаповцы и полицаи прочесывали «Донлесхоз», наши отстреливались. По слухам, пятеро было наших: пожилой мужчина с дочкой и еще трое парней...»
Очень важной деталью в тех первых разноречивых рассказах оказались слова: «пожилой мужчина с дочкой». Впоследствии, когда навели справки, выяснилось, что в документах, выданных Шатило разведцентром, радистка значилась его дочерью.
Далее - профессиональные сопоставления событий по месту и времени, официальные показания свидетелей. И все в следственном деле встало на свое место.
Да, это майора Шатило схватили полицаи недалеко от станции Горная, в лесной сторожке. Подло схватили, предложив зайти поесть и обогреться. Да, это Горбунов, Демьянова, Слепцов, Курепин отстреливались до последнего патрона...
В застенке ГФП-721 всех пятерых подвергли зверским пыткам, но ни одного полезного для себя слова не вырвали у разведчиков гестаповцы. Мужчин они расстреляли, радистку оставили в живых. Нет, не потому, что женщина. Они надеялись выведать у нее радиошифр, чтобы подбросить советскому командованию ложную информацию. Не вышло!
Напрягая волю, слушают нас Ольга Дмитриевна и Наташа. Мы понимаем, как им нелегко. Но рассказать-то надо, притом всё как есть, со всей страшной правдой. А самое страшное, по мысли Ольги Дмитриевны, здесь то, что отец погиб, не успев ничего сделать в тылу у врага. Признаться, и нам раньше приходила такая горькая мысль. Но, когда однажды высказали ее, нахмурился знающий дело разведки человек, с которым консультировались: «Так рассуждать нельзя, неверно это!». И объяснил, почему.
Документы свидетельствуют, что на облаву в «Донлесхозе», где укрывалась группа майора Шатило, на несколько дней были брошены все наличные силы гестаповской аусеркоманды ГФП-721, вся полиция из Красного Сулина и со станции Горная. Это значительно облегчило задачу двум другим нашим разведгруппам, действовавшим поблизости. Необходимые сведения о противнике были добыты. И можно ли сказать «ничего не успели сделать» о людях, которые на себя отвлекли вражескую контрразведку, способствуя тем успеху товарищей? А товарищи доставили очень и очень ценную информацию.
... Слившись с потоком горожан, мы долго ходим по улицам Пятигорска. Ходим и размышляем о нерасторжимой слитности отцов и сыновей, о мужестве героев, которые вели бой до конца, до последнего патрона.
 Карта сайта
Карта сайта